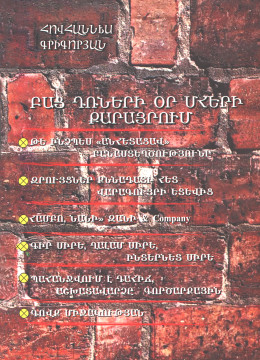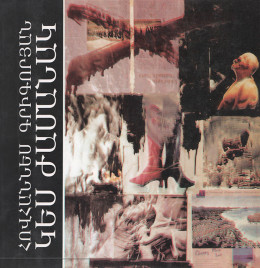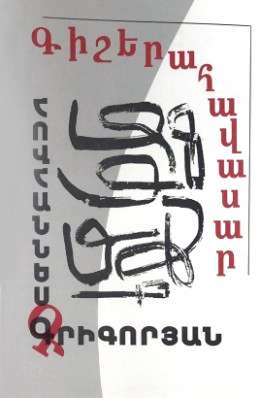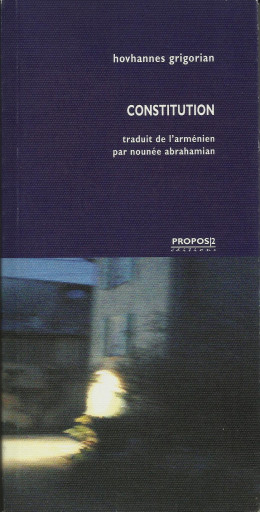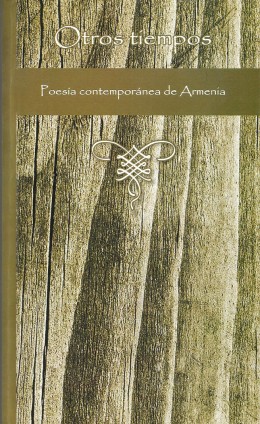И только лицо меняется,
взгляд–остается.
Подзабытые детали
в памяти нахожу.
Каждый вечер в двадцать тридцать
мать ко мне приходила
и молча глядела, руки скрестив на груди,–
значит, пора домой.
Тотчас играть начал военный оркестр,
и, глаз не спуская с девчонок на выданье,
родители бдительно возникали,
держа наготове незримые сети.
Загорается свет,
я склонюсь над столом,
взор, утомленный узором на скатерти,–
устремляюсь в себя,
на извилинах мозга ловлю далеко идущие мысли.
О мой город,
бог ремесел благоволил к тебе,
твой небосклон заслоняли всегда
стан детских люлек и жестяных печей.
О город знойного лета и знойной зимы,
я люблю и теперь одноэтажный ряд
твоих домов из черного туфа,
дикий блеск твоего юмора, странную смесь։
бред кошки ночной, водка, сводящая горло,
мужчины небритые, вечно в черных костюмах.
Но взгляд остается, всегда остается,
вечным избытком тепла он тебя снаряжает
и делит светлой границей годы и дни…
Как очевидна вдруг в памяти девушка с полной грудью,
как ты ее домогался неуклюже и безнадежно,
пока сражался с мельницей Дон Кихот,
Самвел убивал отца, а следом и мать,
и яблоки сыпались на голову Ньютона…
И только лицо меняется,
всегда человек остается только ребенком,
старости нет.
Каждый вечер в двадцать тридцать
загорается свет, я склоняюсь над столом,
и в глубине дней и лет
ищу себя, нахожу
и долго молча гляжу,
руку скрестив на груди…