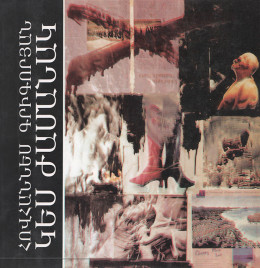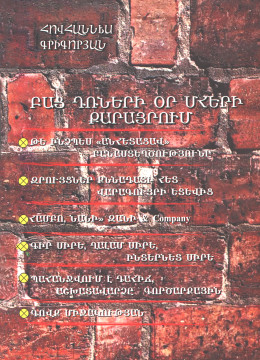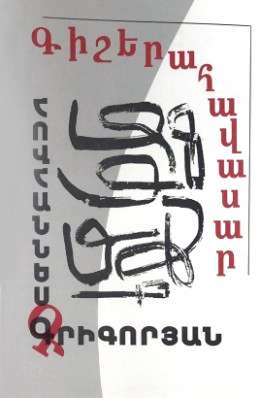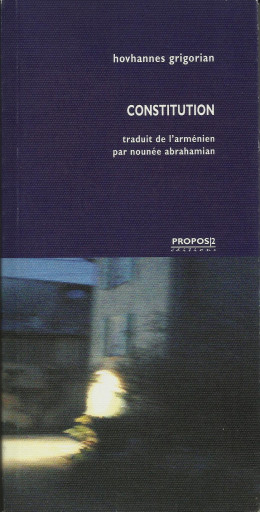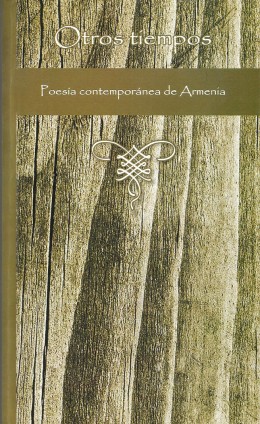Часть 1
Ну конечно, гранаты; конечно,
пулеметные очереди,
во весь кадр умирает солдат,
семейный снимок втоптан в черную гарь.
Война, да, война…
И конечно, красивая медсестра,
и взрываются эшелоны,
наука разбрасывает воронки по всей земле
и вуаль политики набрасывает на злое лицо.
Война, да, война…
И потом гасят свет,
и каждый, спрятавшись под одеяло,
плачет тихо до света,
и во сне бабушка видит святого Саркиса…
Война, да, война…
Часть 2
Х а р а к т е р и с т и к а
За время учебы в школе Гаспарян проявил
себя как прекрасный, чуткий товарищ, как
активный и передовой комсомолец, человек
которому можно доверить любое трудное
и ответственное поручение, будучи уверенным, что он
выполнит его отлично.
Секретарь комсомольской организации
школа № 47
печать подписи
25.12.41г.
НЕТ,
не за тем я послан родной землей,
чтобы о жизни и смерти твоей
искать красивых свидетельств,
и не тяга к слезливым сюжетам
привлекла, приковала к твоей могиле,
нет, —
в жизни каждого человека
есть нелегкий и грозный возраст,
когда бессмысленны все вопросы,
когда ответы — слова пустые,
когда бледнеют святыни,
когда едины четыре времени года.
В жизни каждого человека
должен быть грозный возраст,
когда нельзя не сесть в самолет или поезд,
нельзя не прийти и не встать у могилы того человека,
чья жизнь была намного грознее,
в чьей жизни вопрос и ответ были едины…
…Земля Литвы спала под белым холодным снегом.
Сколько она страдала от ударов чужих копий!
Я иду по снежной равнине,
и вдали, столпившись, дружно твердят деревья։
«Много вынесла родина Донелайтиса,
надо всеми ее площадями
раскачивали виселицы свою непокорную тяжесть,
и литовские матери плакали,
причитали на звучном своем языке,
пока те не пришли, чье было правое дело,
кто дал единственный ответ на все вопросы
мира,
пришли, цветами усыпали хмурые площади
и переулки,
стройно прошли через среди готики и барокко,
и многие
руки прижали к пробитой груди,
и упали на землю, и больше не встали,
их пальцы сжимали литовскую землю,
литовские камни стали для них надгробьем,
литовские матери к их ногам возложили цветы
и слезы пролили над их молодой и короткой
жизнью.
жизнью, в которой вопрос и ответ были едины…»
Нет,
не затем я послан родной землей,
чтобы повторять одни и те же рассказы,
я стою у твоей могилы
и хочу сказать только одно —
что синева твоей далекой родины бестревожна,
синева дня куплена ценой твоей крови,
и каждое утро
солнце
повторяет историю красного цвета…
Часть 3,
или Обвинительная речь в адрес тех, кто впервые выстрелил в людей
Когда поэты сказали,
что в закатах — конец ликованья,
вы лица свои уткнули в холодные объятья
газет.
Томик Ницше потными пальцами стиснув,
следом за танками вы зашагали,
забывая – не всякое слово – жизни начало.
Когда прозвучал наш первый выстрел,
все поняли правду прежде звучавшего слова,
и умолк навсегда Федерико Гарсиа Лорка.
Свинцовая дробь ваших барабанов
стала жутью во мраке ночей,
звезды стали рваными ранами на открытой
груди небес.
Рабский восторг вашей парадной муштры —
вот венец воспитания «сверхчеловека»
и усердия — стать настоящим мужчиной.
Нелепая страсть к маршевому героизму…
Вы, изнеженные в тюле теплого быта,
тосковали по ласковой глади металла…
Надо было дать вам по зажиревшему заду,
чтобы вы опрокинулись разом
в мусорный ящик ваших философем.
А когда поэты сказали։
дорога правды лежит в начале рассвета,-
вы, лишь в испуге отмахивались руками.
Часть 4
Церковь была видна со всех сторон. Она стояла прямо напротив того маленького сада, где был похоронен Арутюн Гаспарян. Деревня называлась Саснава. «В переводе с литовского «Саснава» — это «заяц», объяснил мне директор сельской школы Даугела Стасис Еза, в доме которого я остановился и с которым мы посетили могилу Гаспаряна. -А пионерская дружина нашей школа названа именем Гаспаряна »,- рассказывал директор. Долго стояли мы над могильной плитой, на которой было написано։ «Старший сержант Арутюн Гаспарян и 44 неизвестных…»
А он…
А они…
Давайте же вспомним их всех,
всех известных
и всех неизвестных,
вспомним лица в копоти и в пыли,
вспомним спины, согнутые над рытьем траншей,
вспомним усталые пальцы, скручивающие папироску,
вспомним мгновения передышки,
когда они у стены траншеи мечтали
о вещах простых и обычных,
в мгновения передышки
они мечтали о доме, саде, ручье и солнце,
мечтали о жене, матери, отце, брате,
мечтали об улице, о тропинке,
словом, о том, где сейчас не стреляют,
где нет сейчас ни траншей, ни фашистов,
вспомним их, когда они еще мечтали,
вспомним их всех, неизвестных, известных,
ведь потом, когда они пали,
тогда текли уже кровь и слезы,
и они лежали на земле неудобно,
и кровь текла слишком быстро,
и слезы текли слишком быстро,
и они слишком быстро успели понять,
что с домом и садом, ручьем и солнцем,
где они оставляют жену, мать, отца и брата,
с этим миром они расстаются навеки,
расстаются они слишком быстро,
не успев передать прощального слова…
Вся их жизнь и их смерть —
за высокое, честное дело,
чистое, как слезы и кровь,
так вспомним их всех,
их высокое, честное дело,
вспомним их жизнь,
грозную и короткую,
трагическую и прекрасную,-
вспомним с любовью и болью…
…Я стою
и отыскиваю платок,-
невозможно
вспомнить все это и не заплакать…
Часть 5
«А каждый год 9 мая в нашей деревне торжественно отмечается память Гаспаряна и других павших,- продолжал рассказывать директор школы.- И каждый год 9 мая в сад на могилу сына приходят родители Арутюна. Мать долго стоит у могилы и ведет долгую печальную и безответную беседу со своим сыном. И каждый раз добросердечная Катре Рачкаускене с горечью повторяет историю смерти и погребения Арутюна в уголке ее сада. И каждый раз мать Арутюна не верит этому рассказу. Я это вижу по ее глазам»,- голос директора стал ниже.
Это время только для одного голоса,
в этой речи только одно предложение
все языки вложили в него всю свою грусть.
Время —
ваши лица сейчас перед нами.
Ваши лица открыты, ясен ваш взор.
Мы застыли,
но не в ужасе и тревоге,-
в ожидании.
Мы ждали – раздастся сейчас один голос.
Мы ждали самую грустную речь.
И вдруг – над литовской равниной
очертания женщины в черном
пере вами.
Она приближалась без слез,
и вы приближались без слез,
было только молчанье,
и был прозрачен дневной покой…
Мы только прижались друг к другу, как камни,
когда женский голос раздался։
«Сыновья!»
«Сыновья»,- мы повторили как эхо.
А вы приближались в молчанье.
И женский голос раздался։
«Вы не вернулись».
И мы повторили։ «Вы не вернулись».
И вы повернулись в молчанье.
И женщина не шевельнулась.
И мы теснее прижались друг к другу.
И женский голос раздался։
«Я покрылась черным платком».
И мы повторили։ «…черным платком».
А вы уходили в молчанье
и тихо покрывались землей…
…Время.
Колокола зазвенели,
и рыцари памяти молча
выносили печальные флаги
к черным числам всех стран.
И все громче —
колокола…
Часть 6
И вот я в Ереване, сижу в комнате. Закрываю глаза и в уме перебираю все встречи. Города с их названиями, обрывки разговоров приходят вдруг, и я невольно улыбаюсь. Вот «Солнечная арка» со своими бесчисленными блестящими сердечками. Это подарок верующих. Вот Марцелиюс Мартинайтис, высокий, светловолосый поэт, вот говорит его жена: «Вильнюс основан на нескольких холмах, а эта башня, на которую мы сейчас поднимаемся, исторический музей и довольно-таки старый». Вот Алгидрас Стяпанавичус, бесконечная улыбка, он график, имеет множество призов: «Пожалуйста, я дарю вам недавно изданный сборник моих графических работ, о, что вы, пожалуйста, пожалуйста…». Вот мастерская художника Кунца, он по-французски громко читает Верлена, другие, закрыв глаза, слушают. Вот первый секретарь ЦК комсомола тов. Моркунаc: «Вы из Армении, ищете могилу Арутюна Гаспаряна, знаю, знаю, за ней ухаживают, вы должны написать, очень хорошо…»
Случайный разговор с водителем такси по дороге в Каунас: «В Армении был давно, жарко было».
Деревни с похожими друг на друга домами, красные, как на макете. Это Литва. Снег, обнаженные высокие деревья, тишина. Вот районный центр Капсукас. Все в порядке. «Мне уже позвонили из Вильнюса, наша сотрудница проводит вас до деревни Саснава и вообще поможет вам», — это первый секретарь местной комсомольской организации тов. Мурашка, первый человек среднего роста, которого я увидел в Литве.
Литва, красивая, белая, как на макете.
Литва – я стою восхищенный,
но грусть не проходит нигде,
ибо всюду я вижу
сквозь занавес крови – его,
молодой армянский солдат,
спящий в древней литовской земле…
Есть гармония в песне утра Литвы.
Плеск рыб в течение дней Литвы.
Но печаль – как музыка надо мной,
и голос далекий тревожит меня, —
в лабиринтах поиска правды —
ищи и найдешь
каплю жаркой армянской крови —
от земли Византии до поля Литвы.
Кровь не знала покоя в армянском сердце,
хлеб насущный не мог ее убаюкать,
как закон она устремлялась течь
на перекрестки истории,
где кровь чужая текла, слезы и пот.
Армянин, землепашец, добряк,
пораженный натиском неправоты,
выходил на битву всегда,
от рождения лирик,
много раз становился героем трагедий.
Пусть историю эту знает Литва,
и я не забуду твой путь, Литва,
и жесткость, и доброту, и слезы, и смех.
А печаль –
с сорока четырьмя неизвестными –
всходы дает в красивой деревне Саснава…
Как все это нести в себе,
когда снова где-то
двадцатилетние гибнут за правое дело,
льется кровь за правое слово
и чернеют платки на седых головах матерей…
Литва, утром, вечером – слушай
горький хор матерей,
помни всех,
кто погиб во имя гармонии твоей песни,
чтобы шли спокойно девушки с длинными ногами,
чтобы игры вечерних реклам возвещали плавное утро,
чтобы все, что в грядущем, было бы с ясной улыбкой,
чтобы все, что в грядущем, было бы совершенно.
Часть 7
А когда опустился вечер, я начал объяснять директору, что приехал сюда, чтобы написать поэму об Арутюне Гаспаряне, Литве и ее людях. И затем я попросил его, чтобы утром меня проводили к Катре Рачкаускене. И еще я его попросил, чтобы он меня познакомил с жителями деревни, чтобы рассказал о деревне по возможности просто и без прикрас. «С любовью», — сказал директор.
… Война – это окопы,
бесхлебье,
тиски окруженья,
крик «ура», рукопашная схватка, стон и плач,
кровь,
пламя,
пепел,
треугольник письма,
похоронка:
«Ваш сын пал смертью храбрых».
«Сын мой, сыночек,
куда ты ушел,
где ты схоронился,
в какой стороне…»
Плачет мать.
И это война.
Ангелы войн в черных фраках
под маршевый ритм
жиреют от дальнего плача
и причитают слащаво:
давайте, плачьте еще,
пусть плач будет громче и горше…
«Вместо подушки
камень под головой,
никто не накормит,
никто не согреет,
он не услышит
ни слова доброго,
мать далеко,
сын мой, сыночек,
куда ты ушел…»
Повторяется снова и снова:
те, для кого свист и звон железа
переплавлен в звон золотой,
глухи к слезам и песням.
В их оплывшей грудной клетке
запыхавшейся пляшет доллар,
там, где биться должно сердце,
и в пыхтенье нетрудно услышать
последний удар инфаркта…
Но у кого есть сердце,
тот во тьме не смолчит
перед тьмой.
У кого есть сердце,
тот знает,
что в пробуждении улиц
не найти ничего роднее,
чем приветствие «с добрым утром»,
сказанное мирным тоном.
У кого есть сердце,
тот в нем хранит
все беды и смерти,
без жалоб,
без патетической фальши.
Долг мира еще – найти
слова оправданья
за столько смертей и страданий,
найти для тех,
кто не может забыть
все, что пришлось пережить и увидеть.
Часть 8
Как мы и условились, я посетил школу деревни Саснава. Директор по какому-то важному делу выехал в райцентр Капсукас. Меня сопровождала его жена, преподавательница русского языка в той же школе. Валерия Даугелене была улыбчивой и приветливой женщиной. От их дома до школы путь был слишком короток, но я успел рассказать, что уже побывал в школе-интернате имени Винцаса Миколайтиса-Путинаса в Капускасе, что встретился с Оной-Ионой Сакалускене, что эта женщина с голубыми и удивительно красивыми глазами вместе со своими пионерами первая нашла могилу Арутюна Гаспаряна в 1963 году, до этого бывшую неизвестной, что потом в центре Саснавы, напротив католической церкви, в маленьком саду установили памятник всем известным и неизвестным, погибшим в этом районе…
Школа Саснавы была довольно старинным и чистым двухэтажным зданием. А ученики, как и ученики всего света, бегали по коридору туда-сюда, и я еле сдерживал желание присоединиться к их беготне… В учительской, после того как я удобно разместился и познакомился с учителями, на стол передо мной положили три огромные папки, где аккуратно было собрано все, что имело отношение к Арутюну, начиная с его детских фотоснимков – видов Армении – и кончая экземплярами газет со статьями о нем (на литовском, на русском), письмами его родителей и родственников. А писем было много. Вот одно из них, адресованное школьникам:
«Дорогие дети, я потерял своего сына, он погиб за победу и свободу нашего будущего поколения. Он сейчас с вами, в вашей земле, окружен вашей заботой и вниманием, и поэтому я спокоен. Желаю вам бесконечного счастья и чтобы вы росли, не зная войны.
Ваш Тигран Гаспарян».
Это отец Арутюна.
Во еще одно письмо.
«Нашим единственным желанием является укрепление дружеских связей между нами ныне и в будущем.
От имени семьи.
Сергей Гаспарян».
Это брат Арутюна.
Письма, письма… А какое внимание, какое заботливое отношение к этим реликвиям!
— Спасибо, спасибо, вы прекрасные люди…
— Что вы, это вам спасибо…
А затем двух девочек-старшеклассниц (в Литве есть 11-й класс) освободили от уроков,
чтобы они меня проводили до дома Катре Рачкаускене. Дорога была длиной, около пяти километров надо было идти по снегу и холоду… Я вопросительно посмотрел на школьниц, и они сразу в ответ улыбнулись, что значило – ничего страшного, мы ведь люди севера.
Красивые и стройные, эти две школьницы смело шли со мной под холодным ветром, проваливаясь в снег.
Женщина, открывшая нам дверь, высокая, со строгими чертами лица, с закаленными от работы руками, была сама Катре Рачкаускене. По описанию я сразу узнал ее. Нас пригласили в дом, и мои спутницы рассказали о цели моего прихода. Катре не понимала по-русски, и я говорил с ней при помощи моих спутниц.
— Стреляли в деревне, за деревней, а под вечер стрельба прекратилась, и мы начали выходить на улицу. Я стояла во дворе, вошли солдаты, они устали и были голодны, и я их угостила всем, чем могла. Они молча поели. И так же молча вышли, а немного погодя стали копать могилу в углу сада. Его принесли на носилках. До сих пор помню его черные, широко открытые глаза. Я принесла цветы. Я закрыла его глаза. Я плакала… А его товарищи, — после короткой паузы продолжала Катре, — те, которые похоронили Арутюна в моем саду, возвращаясь домой после окончания войны, пришли сюда, долго стояли у его могилы, выпили, прослезились и только потом разъехались по домам.
…Попрощавшись с моими спутницами, забыв их поблагодарить и спросить их имена, я на попутной машине выехал из Саснавы в Каунас. А потом, всю ночь качаясь в поезде Каунас-Рига, неизвестно почему все время думал о человеке, не имеющем ничего общего с этой историей, — о классике литовской живописи Рустемасе Енасе, который родился в 1762 году в Константинополе и умер в 1837 году в Литве. Настоящее его имя было Ованес Арустамян.
Катре,
постаревшая, одинокая, гордая женщина.
Я не ищу сравнений, чтобы тебя приукрасить.
Ты схоронила солдата и плакала как мать…
Цветы, слезы,
окончен путь молодого солдата,
нет музыки,
и не плачут ивы.
Катре,
ты печешь хлеб,
греешь молоко,
чистишь снег на дворе и за дверью,
ты стираешь,
а затем, а затем
ты садишься на женский топчан,
усталые руки роняешь на стол,
и в ясной твоей душе
раздаются выстрелы снова.
Снова и снова
дверь открывают и входят молча содаты,
запыленные и усталые,
ты их кормишь снова и снова.
Снова и снова молча они выходят,
молча роют могилу в углу сада.
Снова и снова
приносят его на носилках.
Снова и снова
его черные глаза открыты.
Ты снова и снова
их закрываешь и плачешь.
Катре,
каждый вечер
ты, постаревшая, одинокая, гордая,
перед тем как уснуть,
перед тем как закрыть глаза,
ты его глаза закрываешь и плачешь…
Это все осталось во мне.
Это все —
повторяю снова и снова,
про себя повторяю и вслух
в шуме, в спешке чужих вокзалов,
под безликим взглядом витрин;
нет слов,
нет музыки,
и не плачут ивы…
Трудно слушать тяжелые речи?
Не выпить ли кофе?
Сменим тему, затронем проблему
связи физики с лирикой?
Или выдадим модно-роскошную фразу:
«Барышни, вас изнуряет тема нашего века,
мы издерганы,
замкнуты,
утомлены,
так позвольте погладить без старомодной
стыдливости
ваши весьма современные голени».
Или давайте, томно уставясь в окно,
через рассчитанные промежутки
будем вздыхать,
поцитируем Ясперса
или признанного в масштабах кафе,
подающего вечно надежды
мыслителя здешних мест…
…А день снова крылато навис,
трамваи звенят без конца, как телефонные
трубки, которые некому снять.
Как кровавые шарики – красные автобусы
снуют по артериям улиц.
Вот начало новой главы.
Но пока в ней еще ни слова,
пусть еще царит то молчанье,
чтобы высказать все до конца:
— Далеко в Литве,
возле церкви в деревне Саснава —
сорок четыре неизвестных солдата,
с ними двадцатилетний солдат,
армянин,
комсомолец.
Деревья над ним расцветают весной,
и воздух пахнет парным молоком.
Но он не дышит, не видит, не слышит.
С песней проходят девушки,
твердым шагом идут мужчины.
Но он не дышит, не видит, не слышит.
Слаще меда любой вечер,
как не лечь в цветы и в них не уснуть!
Но он не дышит, не видит, не слышит.
Пламя зрелости затухает
под колыханьем полей.
Но он не дышит, не видит, не слышит.
Он не дышит, зима приходит,
снег летит и белой рукой
равнодушно заносит черные глаза,
но он не видит …
Эта песня жестока…
Трудно слушать ее?
Почему вы молчите?
Почему вы твердите о связи физики с лирикой?
Вы плачете?..
Удивительно,
что впервые на практике создано человеком —
орудие, убивающее человека,
а что стало первой теорией —
мир.
Не ищите здесь аналогий.
Не ищите связи
со сказанным прежде.
Я просто случайно открыл страницу истории,
и стрела просвистела на первой странице.
Как в немом кинофильме,
Человек полуголый упал и больше
не шевельнулся.
А на второй странице загрохотали пушки,
и целые толпы людей распростились с жизнью.
И бодро звучащая музыка
возвестила пир во дворце:
вот бароны в изящных позах,
баронессы – сама нежность,
маркизы – диктаторы вкуса.
Вот скользит по залу король,
поддерживая ручку королевы.
Зал рукоплещет.
Затем…
А затем скользит гильотина.
И падает голова
с идеей свержения короля.
Словно знаки согласия с миром,
запылали над миром костры.
Человечье мясо горело,
его запах было легко отличить
от непреходящего запаха
горящей надежды,
борьбы,
горящей науки, свободы и счастья …
На фоне вековой гари –
черный шар Земли,
и почерневший распятый Христос,
как спутник парил над землей,
и тень от креста
вырастала черной тенью ракеты.
Лишь на третьей странице рухнули цепи,
человек красным цветом вывел свою свободу,
и новая музыка
возвестила хижинами мир.
А на четвертой странице…
На четвертой странице Саснава,
и надгробие возле католической церкви…
Я стою у могилы на четвертой странице истории,
голова непокрыта,
И стоящий рядом литовец торопит меня:
«Ты простынешь».
И когда я сдвинулся с места,
Как плач, как лавина нахлынула песня:
«Мы погибли, чтоб вы свободно дышали
на этой земле,
а в наших сердцах была жажда жизни.
Мы погибли, чтоб жили вы своим сердцем,
своим умом,
чтоб, как птицы, имели жажду полета.
Помните нас,
как мы помнили вас, когда мы умирали».
Мы молча шагали
рядом, я и литовец.
Литва перед нами, а под снегом мирное поле.
И как память, как дань уваженья
по всей дороге не шелохнувшись стояли
на страже
деревья…