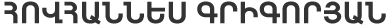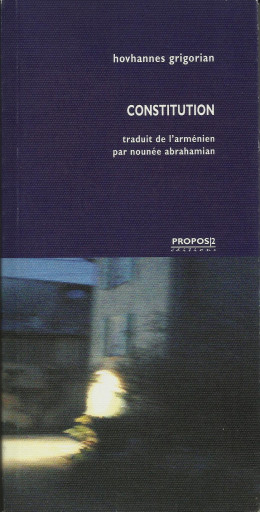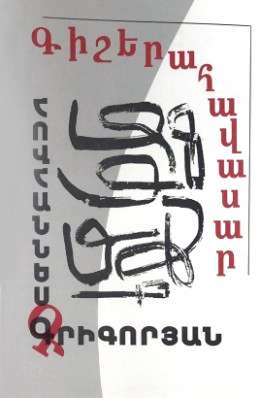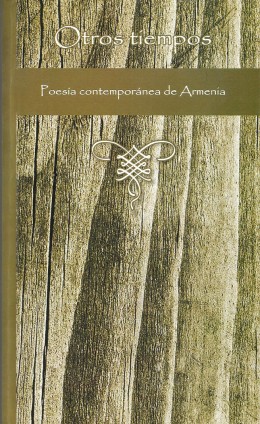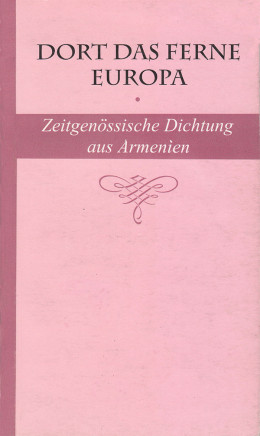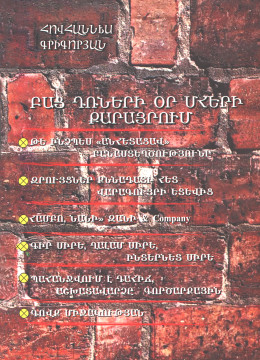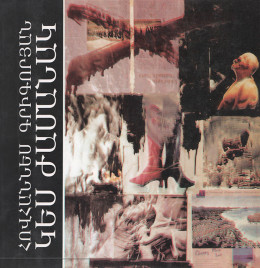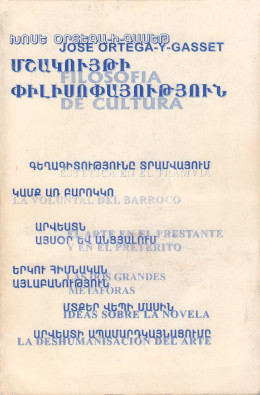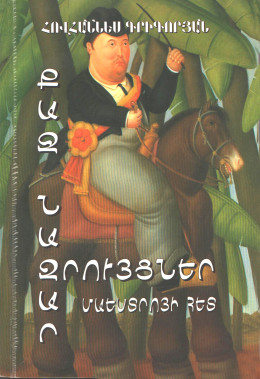- Старый ковер
И палец твой снова скользит по узору
легонько –
какие-то звуки издалека,
вначале чуть слышно,
потом все отчетливей, громче,
и с шумом ужасным
под самым окном пробегает машина,
вначале одна,
потом несколько сразу,
затем уже целый поток…
И жизнь беспризорных
бездомных собак
становится много опасней,
чем в прежние – давние – годы…
И жалкие эти, и вечно голодные
сирые псы
на улицах пыльных
далекого раннего детства –
их жалобный вой настигает тебя и сейчас,
и значит, жестянщик Ваго՛
выходит из дому
ровно в семь, как всегда.
В ранний час он идет на работу,
равнодушно пиная
полусонных бездомных собак,
так привыкших к беззлобным
ежеутренним этим пинкам,
что лежать остаются у стен,
где лежали, прижавшись друг к другу,
мелкой дрожью дрожа,
где одну за другой
проводили голодные ночи.
А затем этот вой переходит в неистовый визг –
это значит, что в восемь утора
по пути на работу
парикмахеры вновь проверяют –
мастерски, деловито –
остроту своих ножниц и бритв
на хвостах и ушах
бедолаг подзаборных.
И палец твой снова скользит по узору легонько –
и ты с замиранием ждешь,
вот сейчас позовет тебя мать։
просыпайся, сынок, хватит спать,
скоро десять на наших часах…
Словно тихие эти слова подтверждая,
в дом врывается с улицы
грубая ругань и лай –
там проходит мясник наш – Аво,
по натуре добряк,
только с виду угрюмый и мрачный,
и за это не любит беднягу никто,
в том числе и собаки.
Эта ругань и лай
повторяются каждое утро
ровно в десять часов։
запах мяса и крови почуяв,
бесновались собаки,
бушевал и бранился Аво,
проклиная собак,
а затем поминая и тещу свою, и жену,
и соседей, и всех остальных…
Пока шум этот, гам вдалеке не затих…
И палец твой снова скользит по узору
легонько –
в неком городе, в неком дворе,
этот старый ковер на какой-то стене,
и какая-то женщина- мать молодая
с младенцем грудным на руках –
понимающе смотрит, безмолвно։
может быть, поняла,
как уходят стремительно года.
Потому и стоит пожилой незнакомец
перед старым ковром,
неизвестно о чем вспоминая,-
вот уже увлажнились глаза,
вот слеза появились,
вначале одна,
потом несколько сразу,
затем уже целый поток…
- А ребенок проснулся и плакал
Мелкий дождь моросил
в Боши-таге[1] во вторник.
И сквозь серые сумерки плыл,
рассеиваясь в тумане,
дальний звон в дальнем храме,
словно места не находил.
Плыл и смешивался со слезами –
там ребенок проснулся и плакал.
Звон смешался со скрипом ворот,
с тяжким кашлем печальных мужчин,
что как раз из ворот выходили,
чтоб растаять в дремучем дожде.
Там ребенок проснулся и плакал…
Мелкий дождь моросил
в Боши-таге во вторник,
монотонный, тоскливый для слуха,
бесконечный безвременный дождь.
Много дней умирала старуха,
в окружении правнуков, внуков…
Много дней, выбиваясь из сил,
хорошо знавший дело собачье,
добросовестно, горестно выл
пес домашний…
Мелкий дождь моросил.
Пес охрипший старательно выл.
А ребенок проснулся и плакал…
А старуха не умирала,
потому что уже много дней
сына старшего ожидала։
улетела к нему телеграмма –
в дальний город, где снег идет.
Перезвон далекого храма,
пробиваясь сквозь даль, плывет,
и плывут, и сплетаются вместе
тяжкий кашель и скрип ворот,
плач ребенка –
(а дождь идет…)
вдаль плывут,
оставаясь на месте…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Эти дни, что подобно дождю моросят
бесконечно,
эти вторники, что, чередуясь, сменяют
друг друга,-
их разве упомнишь?
Эта жизнь, что проходит сквозь волглую мглу
быстротечно,
этот старческий кашель, тяжелый, как звуки
валторны,
и, главное, – помнишь? –
ребенок, который тогда в Боши-таге
проснулся и плакал,
во вторник, когда моросил мелкий дождь…
- А когда выпал снег
И вот тебя пронзила беспредельная тоска
по мудрому слову,
и ты понурясь зашагал прочь.
Маленький провинциальный городок
так ничему тебя и не научил,
но ежеутренне и ежевечерне
он поил тебя свежим молоком.
А когда выпал снег,
ты стал совсем сентиментальным.
С детства у тебя была склонность
к необъяснимой грусти,
к перепадам тоски,
к чуду неприметного существования.
А когда выпал снег,
ты захотел вспомнить свое прошлое,
хотя бы ради того,
чтобы опять повитать в облаках,-
все это пришло тебе в голову,
как только выпал первый снег.
Маленький провинциальный городок
похож на неумелый кустарный сонет.
В маленьком городке по пустякам не
рукоплещут,
в лучшем случае лишь усмехнутся.
Там ходят в театр огромными семьями.
И книготорговец в поношенной шляпе
затевает с тобой разговор
о том и о сем…
И ты молча пожмешь ему руку.
И в утреннем свежем восторге
ты сравнишь белый снег с молоком.
А потом ты, спасаясь, сбежишь
от бурлящего жизнью торговца.
И на улице, молча понурясь,
ты опять зашагаешь вдоль строк
аляповатого цветистого сонета.
4. Пустая рамка для фотографии
И в деревянной пустующей рамке для фото
вдруг появляется твоя голова,
склоненная набок։
редкая седеющая бородка,
неумытое восковое лицо
и угасший тоскующий взгляд.
«Безумный Саргис, безумный Саргис!»-
вот ватага босоногих детей
с шумом и криками промчалась по улице.
Но печален угасший твой взгляд.
И никто никогда не узнает причину
тоски и печали твоей,
не узнает о том,
почему ты не спишь третью ночь
с того дня, как издох твой любимец, твой кот,
твой единственный спутник,
с того дня, как тайком
ты его схоронил.
В парке, в дальнем его уголке,
третью ночь ты взрыхляешь землю,
третью ночь поливаешь ее,
очищаешь от сора, травы и камней,
третью ночь ты, сидя над ней,
молча ждешь, когда же пробьется росток
кошачьего древа?..
И с надеждой ты смотришь на хмурое небо,
лепеча ели слышно при этом։
если весна будет дождливой,
если солнечным будет лето,
если осень не будет жестокой такой,
если много снега будет зимой…
«Безумный Саргис, безумный Саргис!»-
босоногих детей ватага
опять промчалась по улице.
И ночь опустилась,
руками двумя опираясь о теплую землю,
а ты не устал тут сидеть.
И сидишь ты совсем поникший
у каких-то ворот,
склонив голову набок.
Вдруг мелькнули в кромешной тьме
две зеленые яркие точки,
приближаясь и отдаляясь,
словно звали тебя за собой.
И твое упругое тело напрягалось в темноте
и метнулось вдогонку,
и уже ты бежишь с колотящимся сердцем
в сторону городского парка,
и у входа в него накрывает тебя с головой
первая волна голубого Дуная.
И вот уже ты, прячась
в сгущающейся темноте,
неслышно крадешься, пробираясь туда,
где под звуки прекрасного вальса,
взявшись за руки, пары гуляют.
О, это упоительное зрелище,
волнующее душу!
Достопочтенные мужи,
их чисто выбритые щеки
сияли, словно золотые трубы
парадного военного оркестра.
А как сияли пуговицы, пряжки!
О, эти дамы с пышной полной грудью!
Какие бриллианты, серьги, кольца,
какие кружева, цепочки и браслеты,
серебряные пояса!
Ну, просто выставка ходячая,
витрина, внушавшая почтительный восторг.
Как шествовали гордо
сплоченные ряды невест, и женихов,
и дедушек, и бабушек –
как спаянно и монолитно,
плечом к плечу!
И только ты – невидимый и одинокий,
с угасшим взором, реденькой бородкой,
склоненной набок головой –
смотрел на них из-за деревьев,
и твоя рука
привычно гладила взрыхленную могилку
единственного умершего друга,
и ты шептал при этом։
если весна будет дождливой,
если солнечным будет лето,
если осень не будет суровой такой,
если много снега будет зимой…
- Первая любовь
И первая любовь, и что прячется в тени
в том городе,
где тебя никто и не помнит,
где никто и не смотрит на тебя,
но говорит, не глядя на тебя,
печально,
слишком печально,
и где, когда оглянешься назад,
в свое минувшее,-
дин-дон! –
звонят колокола всех городских соборов.
Где у голубок, принесенных в жертву,
согласно старому обычаю,-
у белых, истекающих кровью голубок,
глаза твоей первой любви,
что прячется нынче в тени,
но летят ее белые перья
мимо скорбных невидящих глаз,
мимо темных от старости стен…
А никто и не смотрит на тебя,
но говорит, не глядя,
мол, все напрасно,
совершенно напрасно…
Когда ты оглядываешься назад,
и бросаешься вниз головой
в колодец прошедших лет,
и глухие рыдания, и глубокие вздохи
разрывают на части грудь,
и морщины твои исчезают,
и глаза твои переполняются детством,
и сжимается сердце… сжимается сердце…
От удивления и восхищенья
ты, словно утопающий,
неслышно разеваешь рот,
чтоб закричать։
ведь ты ее увидел –
там, в глубине, в далекой дали,
на самом дне,
среди густых теней,
там белый голубь –
первая любовь
(летят-кружатся вырванные перья,
кровоточат незаживающие раны),
и, словно утопающий,
ты раскрываешь рот, чтоб закричать
от боли и от горя,
и тогда –
дин-дон! –
звонят колокола всех городских соборов…
- День рождения
Сегодня весь день я пробуду дома,
как обычно в свой день рождения.
Странная, удивительная вещь։
каждый год,
много лет подряд,
повторяется этот день.
И, что поделаешь, гости дорогие,
вы все уже пришли,
и потому я глубоко взволнован,
я очень тронут и почти растерян.
Вот мои старые фотографии, дорогие гости,
любуйтесь вдоволь,
дорогие мои друзья,-
у нас целый день впереди.
Вот на этой – мне только три года։
справа улыбается моя мать,
сзади смеются мои сестры,
а этот веселый человек – мой отец.
А здесь я уже взрослый,
стою у стены Гегарда.
Справа – моя мать с голубем в руке.
Сзади – мои сестры, в руках у них голубки.
А этот мужчина – мой отец։
смертельно бледный,
с опущенными пустыми руками.
А на этой – я совсем маленький,
больной, слабый, беспомощный.
Справа – плачет моя мать,
сзади – плачут мои сестры,
А этот усталый небритый мужчина –
мой отец.
Но сейчас,
именно сейчас мы все здоровы, гости дорогие,
и бесконечно одиноки,
дорогие друзья.
Я сегодня весь день оставался дома,
кто-то крепко-накрепко запер дверь,
затемнил, занавесил окна,
и я лежу посредине комнаты
в окружении гостей։
справа – голуби,
сзади – смех,
а по комнате бродит
заблудившаяся слеза…
7. Бесконечное возвращение
И этот тощий старик улыбнулся лукаво
и вобрал голову в плечи,
чтобы спрятать лицо.
Боже мой,
ведь ты его хорошо знаешь,
старика,
ровесника гипсовых статуй,
старика, который живет
в этом парке, в саду, на пригорке,
старика,
которого каждую весну красят в зеленый цвет
вместе с оградами, скамейками, каруселью,
вместе с деревянными лошадками,
деревянными слонами,
деревянными медведями
и вместе с остальными
очень необходимыми,
очень деревянными
и очень нужными предметами,
старика,
который лукаво улыбнулся
и вобрал голову в худые плечи,
чтоб схоронить свое лицо.
Боже мой,
ты ведь каждую зиму
возвращаешься в этот далекий город
с любого конца земли –
именно в то самое время,
именно в тот самый час,
когда с окрестных улиц
навстречу тебе
движутся печальные
похоронные шествия,
когда из всех гробов
лукаво улыбается именно этот старик
и прячет лицо в цветы,
обрызганные дешевым одеколоном.
Именно сейчас в твоих глазах
нет ничего, кроме слез,
потому что ты пришел издалека,
потому что ты стоишь на пороге своего города,
потому что стучишься в его ворота
и стучишь все сильней и сильнее,
но никто не слышит тебя,
но никто не встречает тебя,
только гипсовые статуи
улыбаются лукаво,
и вбирают головы в плечи,
и прячут свои лица,
как старик…
- А картина остается прежней
И некто,
а именно – Джорджо де Кирико[2],
пожелал войти в число бессмертных,
а ты узнал об этом довольно поздно.
О, какая печаль,
какая печаль…
А картина остается прежней –
поправки совсем незначительны.
И в маленьком провинциальном городке
опять идет белый снег,
газетные киоски ломятся
от неведомых новостей,
и пестрят, и старятся
иллюстрированные журналы,
а киоскер гордится
неоспоримостью своего бытия.
Простите,
Но ведь это правда,
злободневная правда,
нетленная правда.
И когда ты идешь вниз по улице
и выходишь на площадь,
ты думаешь։
о, какая печаль…
И ты узнал об этом слишком поздно.
В маленьком провинциальном городке
сегодня идет мелкий снег,
а ты переворачиваешь страницу книги
и краем уха слышишь,
как маленький мальчик
под твоим окном насвистывает
неуместно веселый мотив.
И картина
постепенно темнеет,
и ты закрываешь книгу,
и откладываешь ее в сторону,
и роняешь голову в ладони,
и долго думаешь,
очень долго…
- Бумажный Новый год
И я пошел по улице и вспомнил
с внезапной ясностью ту ночь –
накануне давно миновавшего Нового года.
Эту забытую историю
не так-то легко воскресить,
но именно сейчас,
неизвестно почему,
я вспомнил все
без видимых усилий.
Вот ярко загорелся свет в огромном доме,
и стало видно все, что происходит в нем.
А вот идет отец, несет большую елку
(я прячусь за углом,
не то меня заметят
и непременно спросят:
почему это я так постарел?),
вот входит он в ворота
(я встал на цыпочки
и заглянул в окно).
Мои сестры прыгают от радости,
и я прыгаю вместе с ними –
маленький, очень маленький мальчик.
Из другой комнаты выходит мать,
она несет отцовское пальто,
которое купили задолго до войны,
и шапку
послевоенного образца.
Мать что-то говорит,
но мне не видно ее лица,
а что она сказала нам тогда –
я позабыл давно.
А на столе уже стоит «вино» и «лимонад»
в цветных бутылках։
их опорожнили задолго до войны
и в них сейчас вода обыкновенная,
в них чистая вода,
послевоенная…
Сейчас мы установим елку на полу,
вот я уже тащу игрушки в ящике
и, надо полагать, с ужасным шумом
(я ухо приложил к окну,
но не слыхать ни звука).
Беззвучно мама сердится на моих сестер.
Безмолвно отец что-то ищет в своих карманах.
А я без разрешения уже залез
на шаткий стул,
чтобы развесить елочные украшения։
бумажные яблоки, бумажные шоколадки,
бумажные мандарины, конфеты бумажные,
среди них роскошный довоенный дед-мороз,
а все бумажки – послевоенные…
(Именно сейчас я должен упасть со стула,
шрам на лбу и сейчас заметен).
И вот я наклоняюсь за игрушкой,
и вслед за этим
моя сестра испуганно кричит,
мама прибегает на мой плач.
А мой отец стоит
с лицом, отобразившим муку,
оторопело и беспомощно глядит
на свою раненую руку,
которой он меня не удержал,
когда я падал,
на забинтованную руку,
на белые и чистые бинты –
единственный его трофей военный, –
которыми потом забинтовали мне голову,
чтоб кровь остановить…
Внезапно свет погас
Во всем огромном доме.
Я продолжал по улице идти,
рукою потирая шрам на лбу,
шрам,
затерявшийся уже среди морщин,
при этом очень ясно понимая,
что
в горле ком предательский растет…
- Трое зурначей
С самого утра
в парикмахерской стояло воскресенье
и не двигалось с места.
Чисто выбритые, с белыми лицами
(парикмахеры не пожалели пудры),
но – черные костюмы, черные глаза,
черные широкие брови –
у дверей стояли трое,
с неподвижными напудренными лицами.
Они курили и переглядывались.
Ярко светло солнце.
И старухи стояли стайками –
краснощекие и аккуратные –
торжественно возвращались из бани,
и огромные корзины для белья
покачивались в такт их мелким шажкам.
Трое напудренных зурначей
курили и смотрели на них,
равнодушно смотрели на них,
и мысленно каждый играл
небезызвестный марш Шопена,
с понятными и простительными
отклонениями…
Они и сами не поняли, почему,
не обменявшись ни словом,
не глядя друг на друга,
они пошли за старухами,
трое зурначей,
гладко выбритые,
с напудренными лицами,
мысленно наигрывая скорбную мелодию,
мысленно,
но с глубоким чувством,
мысленно,
но не жалея сил…
И воскресенье,
застоявшееся у парикмахерской,
медленно и лениво
двинулось вслед за ними.
И мимо голубей,
что взметнулись с какой-то крыши,
словно белое пламя вспыхнувшей спички,
и мимо ворон,
похожих на голубей,
обугленных пламенем спички,
сквозь грохот и шум автострады,
сквозь гомон и крик детей,
ни о чем не подозревая,
торжественно шествовали старушки,
ни о чем не договариваясь,
шагали три зурнача,
пот струился по их напудренным лицам,
оставляя темные ручейки…
А когда
исчезли старушки
в ловушке ворот и дворов,
растерянно остановились они
в густеющих сумерках,
одиноко остановились они,
озираясь,
посмотрев друг на друга впервые:
почерневшие лица, черные костюмы,
черные глаза, черные широкие брови…
И воскресенье словно испарилось –
обуглилось, как вспыхнувшая спичка.
Внезапно и стремительно стемнело…
Но где они сейчас?
И как сюда попали?
А когда
из-за ворот закрытых
в них кто-то бросил камень –
взметнулись в небо с карканьем
три ворона,
слились с кромешной
адской темнотой…
- А взгляд остается прежним
С годами меняются лица –
а взгляд остается прежним.
И я, устремив взгляд в себя,
старательно восстанавливаю былое,
а тут неизбежны неточности и ошибки.
Каждый день
в половине девятого вечера,
где бы я ни был,
моя мать возникала возле меня,
скрестив на груди руки,
они смотрела пристально и молча,
мол, разве не ясно, что пора домой…
Каждый день
именно в этот час
начинал играть духовой оркестр,
и вокруг девушек на выданье
бродили бдительные родительские пары,
держа наготове незримые сети.
Но опять зажигается свет,
и опять я сижу за столом,
и в глазах рябит от усталости,
и тогда я свой взгляд
устремляю в себя,
словно в дальних глубинах рассудка ищу
далеко зашедшие мысли.
О мой город,
во все времена
добрым оком смотрел на тебя
бог работы и ремесла!
И всегда в твоем небе парили
косяки самодельных печурок
и младенческих колыбелей.
О мой город,
город знойного лета и суровой зимы,
я всегда бесконечно любил
вереницы невысоких домов
из черного туфа,
я любил и люблю необузданный блеск
твоего первозданного юмора –
эту дикую смесь
неистовой мартовской кошки
и тутовой водки, обжигающей горло,
и любил и люблю я небритых мужчин
в удручающе черных костюмах.
Ну а взгляд,
взгляд всегда остается прежним –
он безудержно добр,
он как луч, устремленный поверх головы,
освещающий годы и дни,
что тебя ожидают в грядущем.
Вдруг я вспомнил
ту девушку с высокой грудью –
я часто шел за нею по пятам,
томимый неизведанным желаньем,
в то самое время, когда Дон Кихот
победил бы очередную ветряную мельницу,
в то самое время, когда Самвел
убил бы своего отца,
в то самое время, когда Ньютону на голову
упало бы яблоко…
И хотя у людей с годами меняются лица,
в глубине души человек
остается всегда ребенком.
Каждый день
в половине девятого вечера
я сажусь к столу,
зажигаю свет,
и, склоняясь над пропастью лет,
я ищу и ищу себя,
а когда нахожу –
долго молча смотрю,
скрестив на груди руки…
[1] Боши-таг – квартал в Ленинакане, где в старые времена жили армянские цыгане.
[2] Джорджио де Кирико (1888-1978) – итальянский живописец, мастер городского эмоционально окрашенного пейзажа.